Игорь Круглов: Святитель Николай Японский — епископ Ревельский (Таллиннский) и великий миссионер
30 марта 1880 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре был рукоположен (хиротонисан) новый епископ Русской Православной Церкви. Им стал иеромонах (монах в сане священника) Николай (в миру — Иван Дмитриевич Касаткин), который уже почти 20 лет служил в Японии.
Хиротония означает возложение рук епископа или епископов на человека, который становится диаконом, священником или епископом. Согласно церковному учению, епископы являются преемниками апостолов, получивших благодать Святого Духа на 50-й день после Воскресения Христова. В диаконы или священники рукополагает один епископ во время Божественной Литургии. После этого диакон получает возможность помогать священнику в совершении Таинств по поручению епископа. А священник делается представителем епископа, священнодействующим по поручению архиерея. В епископской же хиротонии на кандидата возлагают руки несколько архиереев, после чего тот получает возможность рукополагать новых священников или диаконов или освящать храмы.
Незадолго до хиротонии иеромонаха Николая Священный синод Русской Православной Церкви вынес определение с указанием ему быть епископом Ревельским (Таллиннским) и викарием (помощником епархиального архиерея) Рижской епархии. Но… с откомандированием обратно в Японию. Почему так получилось — нам неизвестно. Возможно, священноначалие желало поскорее возвысить батюшку, чтобы он имел расширенные возможности для миссионерства в далёкой стране. А может быть, планировало в будущем отозвать на Ревельскую кафедру, чего не произошло. Как бы то ни было, в Страну восходящего солнца молодой проповедник вернулся уже в новом сане. И оставался там уже до конца своего более чем полувекового служения…
Впервые он прибыл в Японию в 1861-м, когда получил назначение на должность настоятеля церкви Воскресения Христова при русском консульстве в городе Хакодате. До этого в его биографии были учёба в Бельском духовном училище (будущий святитель родился 1 августа 1836 года в с. Березовский погост Бельского уезда Смоленской губернии, в семье диакона), Смоленской семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии, куда его рекомендовали как лучшего семинариста. В 1960-м по личному ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Григория (Постникова) его назначили на вышеупомянутое место в Хакодате и присвоили учёную степень кандидата богословия без представления соответствующего квалификационного сочинения. Тогда же ректор академии епископ Нектарий (Надеждин) совершил постриг выпускника в монашество с именем в честь великого святителя Николая Мирликийского. И сказал ему: «Не в монастыре ты должен совершить течение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну далёкую и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе с подвигом монашества тебе предлежат труды апостольские». После этого Николай три дня провел с роднёй в своей деревне и, простившись с нею, отправился в дальнюю дорогу. С собою взял Смоленскую икону Божией Матери, которую хранил всю жизнь.
В Японии молодой иеромонах принялся активно изучать японский язык, быт и культуру местных жителей.
«Приехав в Японию, я, насколько хватало сил, стал изучать здешний язык… Кое-как научился я наконец говорить по-японски и овладел тем самым простым и лёгким способом письма, который употребляется для оригинальных и переводных учёных сочинений», — вспоминал он впоследствии (приводится по публикации в издании «Правмир»).
И ещё: «Я старался сначала со всей тщательностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы там надежды на просвещение страны евангельской проповедью, и чем больше я знакомился со страной, тем более убеждался, что очень близко время, когда слово Евангелия громко раздастся там и быстро пронесётся из конца в конец империи…»
Восемь лет ушло на эти кабинетные занятия. Занимался он по 14 часов в сутки. И усилия увенчались успехом. Вот как вспоминал об этом современник святителя Д. Позднеев: «Путём постоянного чтения японской литературы и постоянного общения с японцами отец Николай достиг удивительного знания японского разговорного и книжного языка. У него был сильный иностранный акцент, однако это не мешало ему быть понимаемым всеми японцами от мала до велика, богатство словаря и лёгкость построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг всех японцев… Фразы были краткие, обороты самые неожиданные, но чрезвычайно яркие и сильные».
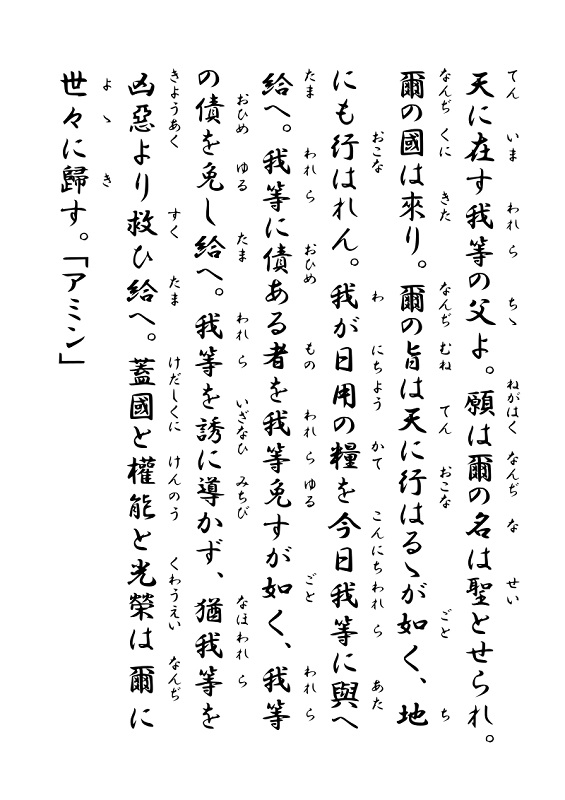
Тогда в Японии часто очень недоброжелательно относились к иностранцам. Самураи открыто ненавидели всех иноверцев и требовали их изгнания из страны, нередко нападали на христиан, считая их своими врагами. В обществе росли ксенофобия и ненависть к «чужакам».
«Один Господь знает, сколько мне пришлось пережить мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и диавол — со всей силою восстали на меня и по пятам следовали за мной…» — писал святитель.
Тем не менее он как истинный пастырь, отвергая страх, занимался миссионерством. И уже первое обращение показало, как велики его вера и любовь к ближним.
Этим первым обращённым человеком стал Такума Савабе, бывший самурай, жрец синтоистской кумирни и член тайного общества, имевшего целью изгнание всех иностранцев.
Рассказ об этом приводится в книге историка А. Платоновой. Савабе встречался с о. Николаем в доме российского консула, детям которого преподавал фехтование, и всегда смотрел на священнослужителя с ненавистью. Тот однажды не выдержал и спросил:
— За что ты на меня так сердишься?
— Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли выглядывать нашу землю. А ты со своей проповедью всего больше повредишь Японии.
— А ты разве уже знаком с моим учением?
— Нет, — смутился жрец.
— А разве справедливо судить, тем более осуждать кого-нибудь, не выслушавши его? Разве справедливо хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди. Если моё учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда. Тогда ты будешь справедлив.
— Ну, говори!
Слова батюшки так потрясли самурая, что он уже сам стал просить продолжения их бесед. И вскоре крестился с именем Павел, даже несмотря на то, что за это грозила смертная казнь.
«Жрец с нетерпением ждёт от меня Крещения. Он хорошо образован, умён, красноречив и всею душою предан христианству. Единственная цель его жизни теперь — послужить отечеству распространением христианства, и мне приходится постоянно останавливать его просьбы из опасения, чтобы он не потерял голову, прежде чем успеет сделать что-либо для этой цели», — писал миссионер в одном из своих писем.
За Савабе последовали его друзья, а потом и другие японцы…
В 1869 году Священный синод учредил в Японии Русскую духовную миссию с центром в Токио, которую возглавил иеромонах Николай. Он крестил местных жителей и переводил Священное Писание и богослужебные книги, считая это главной своей задачей. Отделения располагались также в Нагасаки, Киото и Хакодате. На них выделялось финансирование из России: 10 тысяч рублей единовременно и по 6 тысяч рублей в год. К началу нового, XX века плоды деятельности миссии уже были очень обширны, а уважение к ней росло не только в народе, но и при дворе японского императора. Огромную роль в этом сыграли мудрость, душевность и редкий такт её руководителя.
Большим испытанием для еп. Николая и членов миссии стала Русско-японская война (1904–1905). Понятно, какие настроения возникли в Японии по отношению к русским. И как огорчила она архипастыря:
«Грустно начинается шестьдесят девятый год моей жизни. Вдали — канонада Порт-Артура, который, вероятно, долго не выдержит, ещё дальше — беспрерывные бои, результатом которых — всё больший и больший наплыв в Японию наших пленных… И весь свет торжествует, что Россия разбита и посрамлена».
Он молился за победу своего Отечества, но келейно. В общественных богослужениях, где возносились молитвы о победе Японии, не участвовал. Однако при этом благословил православных японцев оставаться верноподданными своему правительству, чтобы их не обвинили в измене. Японское руководство за это отнеслось к нему с большим уважением, не стало запрещать православные приходы, а даже организовало их защиту. Архипастырю и православным священникам-японцам разрешили посещать лагеря русских пленных и заниматься их окормлением. В сущности, благодаря владыке Николаю началось послевоенное сближение России и Японии, продолжавшееся до самой гибели Российской империи в 1917 году.
Его высокодуховную деятельность высоко оценили и на родине. Вот что писал ему Государь Николай II конце 1905 года: «…Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви». А 10 апреля 1970 года решением Священного синода Московского патриархата архипастырь Николай Японский был причислен к лику святых.

Святой равноапостольный Николай отошёл ко Господу 3 (16) февраля 1912 года. К тому времени созданная ним Японская Церковь состояла из более чем 33 тысяч человек. Верующие молились о нём как о святом праведнике. На похороны прислал венок император Японии, что было исключением для иностранцев. И сейчас его могила на кладбище в Токио почитается как национальная святыня.
Читайте по теме:
Игорь Круглов: Отец Павел (Горшков) — игумен монастыря и борец за трезвость в Эстонии



Комментарии закрыты.